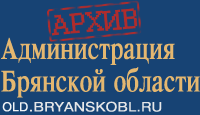Администрация Брянской области — высший исполнительный орган государственной власти Брянской области до 1 марта 2013 года.
Правительство Брянской области приступило к исполнению полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области 1 марта 2013 года в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013 года «О формировании Правительства Брянской области».
Cайт администрации Брянской области не обновляется с 1 мая 2013 года. Информация на этом сайте приведена в справочных целях в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558.
Для актуальной информации следует обращаться на официальный сайт Правительства Брянской области.
Современная брянская литература.
Людмила АЛЕШИНА. Воспоминания
И все-таки благодать…
Из давнего детства всплывает знакомая песенка:
Колыма та, Колыма,
Чудная планета:
Двенадцать месяцев зима,
Остальное – лето…
И это почти так: восемь месяцев в году царствует холод, а потом солнце всё дольше зависает над сопками и долинами, даря короткое тепло – и природа спешит наверстать упущенное. Пригретые склоны покрываются колымскими подснежниками: сон-травой нежнейшей расцветки от темно-сиреневатого и лилового до розового и белого. Болотистые места атакует нарядная желтая кубышка. Множество крошечных цветочков неизвестных названий спешат расцвести и осемениться. Даже на крутых склонах в любой расщелинке, где есть горстка земли, красуется незамысловатое северное чудо. Лиственницы опушаются мягкими иголочками нежнейшего зелёного цвета, кислыми на вкус. Небо становится пронзительно синим на фоне не успевших растаять снежных вершин.
В июне долины рек, распадки между сопками покрываются высокими зарослями иван-чая, белыми соцветиями дурмана (разновидность багульника), пушицей, диким чесноком величиной с сапожную иглу, кустами голубичника.
Расправится шатрами стланик – самое удивительное растение Колымы: мини-кедр, местный природный барометр, к холоду выстилающий свои мощные вечнозелёные лапы по земле, зато весной неистово тянущийся к солнцу. Летом тайга даёт передышку всем обитателям тайги, спешащим сделать запасы к долгой зиме, да и человеку позволяет ухватить нестойкого чёрного загара, который уже к сентябрю бесследно исчезает.
Тучи гнуса одолевает всё живое. Полакомиться голубикой, от которой долины на самом деле приобретают голубой цвет, без накомарника, напоминающего сетчатую чадру, немысленно.
Ближе к осени зарядят дожди – тайга буквально превращается в грибное Эльдорадо. Созревают шишки стланика, по ветвям которого снуют голубые белки и полосатенькие бурундуки, собирающие урожай впрок. Очевидцы утверждают, что если у бурундука забрать его запасы в виде орехов, брусники, то он покончит жизнь самоубийством, просунув головку между стволом и веткой, не желая медленной смерти от голода. Но редко кто зарится на эти запасы: летняя тайга полна богатыми дарами. Тут и брусника и голубика, которые обирают скребками, малина и шиповник, шикша и красная смородина. Спешат набрать вес к зиме многочисленные медведи, ласки, горностаи, куницы, мыши и белки.
Птиц в тайге совсем мало, да и те не поют. Лично я видела в изобилии только куропаток рыжих летом и белоснежных зимой, когда лапки покрываются белым пухом, напоминая унты, иначе отмёрзнут.
В посёлок Усть-Омчуг, в котором прожила я долгих восемь лет, прилетали на короткое лето стремительные стрижи и строили гнёзда под крышами нескольких “высотных” домов в два этажа, которые сооружались, как и одноэтажные дома, из нетленной лиственницы.
Заяц да куропатка – это та живность, которая водится в изобилии и даёт северянам попробовать свежего мясца.
Удивительна тайга осенняя, последний вздох природы перед тем, как погрузиться в долгий сон: золотятся лиственницы, созревшие ягоды шиповника красиво виснут на ажурных безлистных веточках… Но вот уже первые заморозки тронули воду у берегов речек, распластался по сопкам стланик, обняв почву и ища у неё защиты. Оголились, посерели и помертвели вроде только что окрашенные охрой лиственницы. Всё – опять зима, первый сентябрьский снег сыплет на неуютную, промёрзшую землю. Тут не бывает никогда никакой "сиротской" зимы с оттепелями и таянием снега. Лютые морозы промораживают реки почти до дна: сквозь хрустально прозрачный метровый лёд видны донные камушки. Снег, холод, круглосуточная ночь и пугающая тишина владычествуют до весны...
Полька-бабочка
Когда началась Великая Отечественная, мне было три с половиной года, поэтому память не сохранила счастливых и коротких довоенных лет, но зато цепко держит смутные и тревожные, как тяжкий сон, военные года.
Первое, что сразу и навсегда врезалось в память: “Граждане! Воздушная тревога. Гасите свет, спускайтесь в бомбоубежище!” В бомбоубежище мы не спускались, его в нашем дворе и не было, а пережидали бомбёжки в тёмной кухне дореволюционного образца, в которой не было окна. Желтый свет от тоненькой свечки выхватывал из темноты обострившиеся лица мамы и соседок, которые спускались с детьми с третьего этажа к нам, на второй.
Мы, дети, закутанные поверх пальтишек в одеяла /в доме царил холод/, лежали на большом сундуке плечом к плечу, как коконы, прислушиваясь к стрельбе зенитки, которая стояла во дворе и стреляла куда-то в темноту ночи. Иногда удавалось увидеть, как за оконными стеклами, заклеенными по диагонали полосками из маминого платья, красиво струились по небу дорожки трассирующих пуль.
К счастью, это не все воспоминания… Детство есть детство, и даже малые радости военного быта были для нас, детей, радостями большими.
Суровая зима 1943 года. Толпы кое-как одетых беженцев из Сталинграда наводнили Саратов. Военные госпитали были переполнены. Женщины стирали вонючим жидким мылом горы кровавых бинтов, к нам в квартиру подселили после госпиталя тяжело раненого подполковника, доброго и милого украинца, ничего не знавшего о своей жене, оставшейся в разрушенном Киеве с маленькой дочкой. Приятным баритоном он иногда напевал: ”Темная ночь, только пули свистят по степи…”
Как-то неожиданно пришёл Новый год. Мама невесть где добыла ёлку. Иголки с неё почему-то осыпались - и пустое деревце выглядело серым и жалким, как и мы, малокровные дети войны. Но, как говорится, голь на выдумку хитра: мама была фантазёрка; она догадалась обвить пустые ветки серебряной и золочёной канителью, повесила игрушки, засветила свечки - и беспросветная жуть вдруг превратилась в новогоднюю сказку. Она собрала дворовых детей в нашу квартиру, поставила всех парами вокруг ёлки, завела довоенный патефон, опустив на него пластинку с полкой-бабочкой – и мы поскакали кругом, старательно пристукивая пятками по досчатым полам. Качались на ёлке шары и картонные игрушки, покрытые сусальным золотом, пахло воском, радость была разлита в воздухе. Нам было невдомёк, что в это время ужесточалась известная Сталинградская битва.
Тетя Дуся
В детстве чуть ли не самой большой приятностью было общение с соседкой, окна которой напротив нас ловили солнце, посылавшее жалкие лучи отражения в нашу северную квартиру.
До чего ж у нее было хорошо по моим тогдашним понятиям! Во-первых, всегда пахло чем-то вкусным, точнее сказать съедобным. Во-вторых, в кухне не было стерильной чистоты, которую всегда поддерживала в доме моя мама: там царил очаровательный беспорядок. В углу стояла старая корзинка - логово облезлой, вечно кормящей собачки Жульки, ум которой был обратно пропорционален её беспородности. Хозяйка её, тётя Дуся, как мы её звали, хоте я она в родстве с нами не состояла, часто демонстрировала нам остроту ума своей любимицы. Подмигнув моей матери, она говорила: "Надо бы утопить щенят, на кой они мне? "Жулька начинала тут же хлопотливо рассовывать своих отпрысков под кровать и по укромным углам. Затем следовало: "А нехай живут, чай, раздам. " Тот час же Жулька, виляя хвостом, вновь стаскивала свой приплод в корзинку, вылизывала, обихаживала и принималась кормить.
Солнечные лучи властно высвечивали тайны углов, и эта картина запечатлелась в моей памяти навсегда: красное одеяние Николая Угодника с древней почерневшей иконы, пара лебедей на немыслимо красовитом пейзажике рыночного художника, бесконечные ряды чугунов, корчаг, кастрюль и сковородок.
Сама тётя Дуся была полноватая, округлая, одетая во всё черное как монашка. Она была старшей из большой осиротевшей семьи, замуж не выходила, несмотря на привлекательность, заменив младшим братьям и сёстрам мать и отца. Она, не имея специальности, провела свою жизнь “в людях”, слыла искусной кулинаркой. У неё были свои секреты перебиваться во время войны свекольными лепёшками с добавлением отрубей, картофельными и тыквенными яствами.
После войны тётя Дуся нанялась поварихой к какому-то генералу, была сыта и при “деле”. Однажды у этого самого генерала случился юбилей – и наша героиня три дня не отходила от плиты: жарила гусей, начинённых гречневой кашей с яблоками и черносливом, пекла многоэтажные “наполеоны”, фаршировала рыбу и бараньи желудки, намешивала целые корыта салатов. В день юбилея ей пришлось и прислуживать: топчась за сытыми загривками, она едва успевала заменять пустые лохани полными. Будучи пожилой, она очень устала, но была довольна похвалами генеральских гостей.
Наутро, встретив во дворе мою маму, она стала подробно рассказывать про юбилей, про то, что в течение трёх часов гости смели со стола всё то, что она наготовила за три дня. Настойки и вина текли рекой, но предпочтительнее были коньяки и водка.
После ухода гостей несравненной поварихе пришлось долго мыть посуду и убирать квартиру. На уторо она делилась с мамой впечатлегиями:
- Представляешь, - эмоционально говорила она, - под столом я обнаружила чью-то челюсть. Вот напразднывались! Тут вдруг она посмотрела куда-то мимо матери отрешенным взглядом и, потрогав рот, потерянно произнесла: “А моя где?” – и бросилась вперевалку со двора, забыв попрощаться.
Давно нет уже добрейшей тёти Дуси, но когда я её вспоминаю, то явственно осязаю едва уловимый запах ванили, запах детства…
Елки-палки
Клянусь, ничего лучшего в моей жизни не было... Сколько раз в зрелом возрасте я просыпалась ночью от сладко затрепетавшего, обомлевшего в предчувствии счастья сердца! Что это со мной? Да, конечно, сон опять перенес меня из серых будней прямо в сияющий новогодними огнями бал-карнавал в нашей затерянной в глуши колымских снегов Тенькинской средней школы...
Готовились к нему загодя. Наши немногочисленные школьные мужчины: физрук, математик, физик, школьный сторож и вахтёр интерната - на машине, выданной по такому случаю в их распоряжение, ехали к ближайшим сопкам, пробираясь по сугробам к стланиковым зарослям, укрытым снегом как одеялом, откапывали длинные, похожие на осьминожьи щупальца колючие вечнозеленые ветви, обрубали их топорами. Потом всё это богатство, а в придачу спиленный и оголённый от ветвей ствол столетней лиственницы, везли в школу, оставляли в спортзале оттаять, а отдохнув, начинали мастерить ёлку-палку. В центре зала укрепляли ствол лиственницы, дрелью просверливали в нём отверстия, а потом просовывали в них заострённые ветви стланика.
Пахло смолой, в двери зала беспрерывно заглядывала любопытная мелюзга, а мы, старшеклассники, освобождённые по такому важному случаю от уроков, разбирали ёлочные украшения, развешивали флажки, цепи, китайские фонарики, снежинки, вырезанные из тонкой бумаги, кусочки ваты, имитирующие снег. В эти же дни втайне друг от друга готовились к карнавалу, который стал традиционным после печально памятного 1953 года, в котором умер великий вождь…
Ну какие у нас были костюмы? Каждый рядился во что мог. Конечно, были дети из очень обеспеченных семей поселкового начальства: на них были порой бархатные платья, отделанные дорогим мехом. Они, как правило, изображали Ночь, Царевну-лебедь, Снежную королеву, турецкую княжну...
Те, что победнее, а таких было большинство, мастерили себе костюмы из чего придётся: мальчишки рядились в разбойников или пиратов, а порою надевали материнские платья и туфли на высоких каблуках, смешно, по-мужски, вышагивали потом вокруг елки. Девчонки, беря друг у друга взаймы походящую юбку или блузку, обшивали их лентами, тесьмой, надевали бусы, становясь украинками, цыганками, молдаванками. Некоторые просто задрапировываясь в простыни и, навертев на голову тюрбан из полотенца или шарфа, превращались а Хаджу Насреддина или Маленького Мука.
Когда в назначенный день и час зал наполнялся ряжеными, включалась музыка и вся разгоряченная, пёстрая, смеющаяся ватага парами проносилась вокруг елки - это было редкое зрелище, посмотреть на которое приходили учителя и родители, жавшиеся к стенам. Потом тут же, в освобождённом круге, каждый старался оправдать свой костюм. Баянист наяривал то барыню, то цыганочку. Пели, фотографировались, танцевали. Было очень смешно, когда парень, выряженный старушкой, приглашал кисейную барышню – Ночь, а Маленький Мук, путаясь в больших тапках, кружил в вальсе Принцессу.
Бурю восторга вызывали игры. Например, двое желающих с завязанными глазами должны были накормить друг друга сметаной из миски. Ложки попадали в глаза, за пазуху, в нос – обмазанные сметаной рожицы были великолепны. Или надо было откусить без помощи рук подвешенную булку, густо намазанную мёдом. Бегали наперегонки в мешках и задом наперёд с полным стаканом воды. Играли в Золотые ворота, фантики, назначенные “почтальоны” разносили записочки номеру, который прикреплялся на одежду. Под конец каждому выдавался дедом Морозом нехитрый подарок, в нём, кроме традиционного набора конфет и печенья, лежало единственное, причем замороженное яблоко. Это было порой на самом деле единственное в году яблоко /карнавал-то колымский/ - оно тут же проглатывалось вместе с семечками и сердцевиной. Я до сих пор ощущаю, вспоминая школьные годы, сладкое размороженное от жары месиво с яблочным вкусом…
За долгую жизнь много новогодних праздников пронеслось стремительно, как бенгальские огни или запущенные в небо цветные ракеты. Случались они у меня в Астрахани и Хабаровске, Москве и Саратове, Молдавии и Брянске. Но ярче всех просияли те, незабываемые колымские ёлки-палки полузабытого детства…
Гертруда Фридриховна
Я не помню, когда она появилась в нашей Тенькинской средней школе, где добрую половину учителей составляла бывшие заключённые, имевшие длинные сроки по универсальной политической 58-ой статье, не дающей поблажек ни женщинам, ни детям "врагов народа".
И наши любимые наставники, обречённые после отбывания наказания на вечное поселение на Колыме, не имевшие "серпастых, молоткастых" паспортов, преподавали нам математику и физику, иностранные языки и литературу.
В ряду этих бедолаг была и Гертруда Фридриховна, осуждённая как жена шпиона. Сама она рассказывала моей матери, что муж её и она сама были немецкими коммунистами и бежали в Советский Союз после прихода Гитлера к власти. Могло быть в то, и другое, теперь трудно докопаться до истины. Мужа Гертруды Фридриховны расстреляли в подвалах Лубянки, а её сослали сначала в Казахстан, а затем на Колыму, когда туда стали ссылать женщин. Она была одной из тех, кто смог выжить в нечеловеческих условиях - и позднее я поняла, почему.
Каждое лето в течении восьми лет я все три смены проводила в пионерском лагере, расположенном на высоком берегу реки Колымы, напротив прииска “Дусканья”. Схоронив отца в 1949 году, мы с мамой вынуждены были как-то жить, мама работала в школе-интернате на полторы ставки, а летний отпуск никогда не брала, работая также воспитателем в этом лагере, внешне напоминавшем лагерь заключённых: высокий хорошо охраняемый забор, длинные бараки, поделённые на две половины. На одной жили девочки, на другой - мальчики, а посередине были две крохотные каморки для воспитателей.
В одной из них жила Гертруда Фридриховна. Возраст её я не могла определить даже примерно, ведь недаром стаж работающих на Колыме исчислялся год за два: она была крупной, гренадёрского роста тёткой, набравшей килограммы после лагерей. Маленькие умные и хитрые глазки впивались в объект воспитания как пули - обмануть её было невозможно. Своих детей она завести не успела, а чужих недолюбливала, но спокойная работа в школе её устраивала. Она преподавала немецкий и английский языки, зная их в совершенстве, а дополнительно подрабатывала, обучая детей поселкового начальства игре на фортепиано. В пионерский лагерь она привозила гитару, любовно украшенную розовым бантом, и в свободное время щипала струны, негромко чирикая на немецком какие-то сладкозвучные песенки, типа “Дорт унтен ауф дер хаиде, да кюстен зие зих баиде…”. Что-то в этом роде, перевода я не знаю.
Мы, дети, притаившись за дверью, подслушивали и, потешаясь, обезьянничали, передразнивая нашу наставницу.
Но один случай полностью изменил наше отношение к ней.
Река Колыма – это чудовище подстать одноимённой суше, по которой протекает, обители воплощенного Ада. Между двумя берегами, напротив лагеря, был натянут между двумя мощными столбами толстый трос, а по нему шла свободно петля из более тонкого троса, намертво прикрепленного к лодке. С помощью этой лодки и шло сообщение между двумя берегами: перевозили детей, продукты, приезжавших отовсюду родителей, навещающих в воскресенье своих любимых чад. Ширина Колымы в данном месте такая, что дети всегда гадали, приехали к ним отцы-матери или нет: лиц различить из-за дальности расстояния было невозможно. Река, пополняя воды от снеговых гор и протекая по вечной мерзлоте, всегда была бурной; скалистый берег, на котором красовался пионерский лагерь, круто уходил в чёрную беспросветную воду. Никому и в голову не приходило искупаться или поплавать несмотря на то, что порою температура воздуха поднималась летом до 30о тепла. Но однажды мы с подругой вышли из столовой и сверху из лагеря, от которого вели к причалу каменные ступени, увидели крупную фигуру нашей воспитательницы, которая, скинув платье и оставшись в длинных до колен панталонах ослепительно розового цвета и в белом лифчике, сияющем на солнце, явно собиралась искупаться. Радуясь редкому зрелищу, мы напрягли зрение, предвкушая невиданное, и не ошиблись в своих предположениях. Разбежавшись, громоздкая наяда вдруг нырнула, подняв фонтан брызг и камнем уйдя в воду. Мне даже сейчас холодно, когда я это пишу... мы взвыли от восторга и ужаса одновременно, но голова Гертруды Фридриховны показалась над волнами и вот она уже мощными саженками смело плывёт к другому берегу. Прошло несколько минут, и по замедляющимся взмахам белых рук стало видно, что она устает. Её быстро сносило вниз по течению, куда нас всегда водили в походы и где жуткие пороги как зубы чудовища буквально перекрывали непокорную реку, а вода, взрываясь брызгами, ниспадала каскадом. Горе всему живому, да и плавсредству, если занесёт его нелёгкая на эти пороги – разобьёт вдребезги. Уже добрая половина обитателей пионерлагеря, покинув столовую, прыгала и визжала на берегу, следя за храброй пловчихой, которую снесло уже километра на полтора по течению, туда, к смерти.
И всё-таки река отпустила потенциальную добычу - и стало видно, как наша наставница, выйдя из воды, делает несколько трудных шагов и растягивается на горячих камнях. Слава Богу! Мы неистово скачем, вопим: “Ура-аа”!
Гертруда Фридриховна из чужой, нелюбимой и осмеянной нами немки мгновенно возводится в ранг героиня. И заслуженно, ведь она одна переплыла Колыму, преодолев страх, обжигающий холод и неудержимое течение. Может, она и была шпионкой, кто её знает, но какая личность!
Как сладко в юности леталось
Впервые я взобралась на сопку в десять лет, в 1947 году, ранней колымской осенью. Глядя с покорённой вершины на спичечные коробки домов, на петлистые извивы рек Детрин и Омчуг, окружающих с двух сторон наш посёлок, я испытала неведомое чувство раскрепощенности: каждая мышца расслабилась после напряжённого подъёма в гору, тёплый ветер обдувал разгорячённое лицо, хотелось расправить руки, как крылья, и ринуться вниз. И это был бы единственный, первый и последний, полёт в моей тогда ещё такой короткой жизни.
Летели школьные годы... Я всё чаще и бесстрашнее карабкалась на сопки, несмотря на строгие увещевания матери, которая боялась за мою жизнь. Взбиралась я обычно по крутому осыпному склону ближайшей к посёлку горы Чахары, не глядя вниз, чтобы не потерять сознание и не свалиться в бездну. Цепляясь, как скалолаз, за любую выпуклость в кварцевой породе, за полчаса оказывалась на вершине, а обозрев окрестности и надышавшись чистым воздухом высоты, испытав чувство абсолютной свободы, я летела вниз, уже по отлогому склону, не глядя под ноги, как летают горные козы, едва касаясь горной породы, которая иногда осыпалась, - и я летела под шум камнепада, чувствуя себя частью этой осыпи и не боясь её. Домой, увы, являлась зачастую без каблуков на своих хромовых сапожках, которые шились на заказ. На вопрос мамы: “Где каблуки?” - честно отвечала: “Не знаю”. Каблуки местный сапожник прибивал новые, но они держались максимум неделю. В тёплый период года лазанье по сопкам не казалось опасным, но в мои ещё не окрепшие мозги крючком вонзилась мысль: залезть на крутой склон по снегу и скатиться по насту вниз, конечно, без санок. И я полезла, с трудом пробивая подшитыми фетром валенками оледеневший наст, на свою любимую Чахару. Одолев метров пятьдесят, я страшно устала, даже вспотела, несмотря на сорокаградусный мороз. Вигоневые рейтузы, зимнее пальтишко, даже сшитая мамой утеплённая ватином шапка покрылись ледяной коркой - дальше лезть не было сил. Я поискала глазами проходившую под сопкой трассу, убедилась, что на ней в данный момент нет машин, и, зажмурившись, покатилась вниз ногами вперёд. Из-за крутизны склона скорость скольжения была чудовищной, меня развернуло головой вбок, потом вниз. Дальше я уже крутилась волчком, не различая, где небо, где земля, визжа от ужаса, но всё же испытывая упоение полёта. Меня вынесло прямо на трассу, и домой я приплелась еле живая и похожая на снеговика. От трёпки меня спасло только то, что мама была на работе: я успела оттаять и обсохнуть у буржуйки.
После девятого класса, во время летних каникул, мы, любители острых ощущений, пошли в поход во главе с физруком. Взобравшись на близлежавшую Чахару, дальше мы пошли по цепи вершин, намереваясь провести в горах дня три, но не тут-то было. К вечеру того же дня небо оделось беспросветными тучами, пошёл нудный дождь. Мы кое-как сделали навес из стланика, натаскали хворосту, разожгли костёр и всю ночь подставляли к нему то грудь, то спину. Но костёр едва тлел под дождём и не давал возможности согреться и обсохнуть. Утром мы двинулись назад, дошли до Чахары - и тут меня, как обычно, обуяла предполётная дрожь. Я ринулась вниз, по мокрым камням, не оглядываясь назад. Услышала испуганный крик физрука: “Сто-о-ой!” Куда там: я уже привычно летела, осыпаясь вместе со сбросовой породой к подножью горы. В тот раз я пришла домой босиком, неся сапожки за голенища: у них не было не только каблуков, но и подошв. Моя подружка вернулась через час - и месяц после этого кашляла.
В 17 лет я поступила в Саратовский университет. Какие в Саратове горы? Горькие слезы. Правда, песня есть: “Среди гор, среди оврагов городок стоит Саратов…”. Но после Колымы это не горы. Правду сказать, я и с них летала, но прежнего восторга не было.
Моя таёжная натура не давала мне покоя и в большом городе. Наша саратовская квартира находилась в самом центре, на проспекте Кирова - местном Бродвее. Мы жили на втором этаже, и каждое утро, выходя за дверь, я, не глядя под ноги, осыпалась по нашей старинной деревянной лестнице, не считая ступеньки, даже тогда, когда на ногах красовались модельные туфельки на высоких каблуках.
Вот таки пироги
Мне семнадцать. Август. Саратовская тридцатиградусная жара. Я поступила в университет. Сердце распирает гордость, но радость омрачается тем, что деньги кончились, а кушать хотелось.
- Не поехать ли мне на побывку к бабушке? - мелькнула счастливая мысль. Бабушка по матери жила в районном городе Петровске вместе со своими состарившимися детьми: двумя моими тётками и дядей.
И вот я уже трясусь в крытой брезентом машине по неухоженной дороге, туда, где восемь лет назад осталось детство.
Машина одолела сто километров без происшествий - я стою в Петровске, робея: найду ли дорогу в Загорщину, на окраину, где из сизоватых крон вётел когда-то проглядывала красная крыша бабушкиного дома, а рядом клонился на бок ветхий дом тётки Кати.
Слава Богу, детская память не подвела, и через минут сорок я уверенно пришла прямо в объятия родных. Они долго охали, ахали, осматривая меня со всех сторон и не узнавая в зрелой девице прежнюю прозрачную от недоедания девчушку.
Через пару дней я отоспалась от экзаменационных перегрузок, осмотрелась и стала помогать своим стареньким родичам по хозяйству. Тётка Маня, учительница истории в прошлом, была уже на пенсии. Красавица в юности, она не выходила замуж и засохла, как цветок в книге, превратившись в сухонькую и ворчливую старую деву. 0на почему-то не унаследовала от своей матери, моей многодетной бабушки, таланта хозяйки и кулинарки, есть её стряпню можно было только при голодных конвульсиях. Внезапно ей пришла в голову мысль заставить меня испечь пироги, потому что она вспомнила про таланты моей матери и подумала, что они перешли ко мне по наследству. Я клялась и божилась, что не только не пекла пирогов ни разу в своей жизни, но даже не видела, как это делается. Но тётка была закоренелым теоретиком и изрекла, что это проще простого. Вынув из банки какие-то грязновато-вонючие окаменелости, она уверила меня, что это дрожжи и их надобно залить теплым молоком, а уж этого добра было хоть залейся /тётка держала корову/.
Затем по наущению тетки я добавила сахар, муку, перемешала всё это и села ждать, когда закваска запузырится. Закваска, похоже, была ровесницей тётки и не подавала никаких признаков жизни, но тетка не отступала, велела на этой жиже замесить тесто, в которое я добросовестно вбила штук десять утиных яиц /кур у родни не было/, про масло никто не вспомнил. Пока тесто подходило, я раскочегарила старую как мир русскую печь в хате тётки Кати, так как теоретик побоялась в своем логове поднимать и без того африканскую температуру.
Я нашинковала капусту, напичкала в неё с десяток опять же утиных стекловидных яиц - начинка получилась довольно-таки съедобная.
Раскатав так и не подошедшее тесто на огромный, почти с квадратный метр, противень, раскидав на него начинку и покрыв оставшимся тестом, я засунула заготовку в печь, раскидав уголья, и села на табуретку ждать результата.
Через полчаса из печи вкусно потянуло запахом хлеба, я обрадовалась, но рано. Заглянув за заслонку, увидела, что пирог сверху белый, и решила его перевернуть, чтобы он подрумянился с обеих сторон. С трудом вытянув огромный противень, ухватила тряпкой пирог за углы и перевернула низом вверх. Затем, довольная, запихнула его снова в печь и закрыла заслонку. Примерно через час, предвкушая близкую трапезу, вытянула пирог из печи и меня несколько озадачил этот почерневший от жара и сажи монолит, напоминающий калмыцкую надгробную плиту со стёртой надписью. Я перекинула на стол то, что считала пирогом, накрыла полотенцем, как велела тётка, чтобы он обмяк. Пирог не обмякал: он застыл, как гипс.
Тут с дойки притащилась тётя Катя, в некогда белом платочке, длинной чёрной юбке и вытянутой спереди до колен кофте. Она задумчиво села, подбоченясь, за стол и стала, придрёмывая, ждать, когда мои усилия разрезать пирог увенчаются успехом. Так вот скорее перерезал бы его трамвай, если б положить эту плиту на рельсы, но трамваев в Петровске отродясь не было.
В конце концов мне удалось отодрать верхнюю, бывшую и нижней, корку от начинки. Начинка была хоть куда. Тогда мы впятером догадались ломать-рвать корку на части, а начинку просто насыпали в тарелки. Корки мои престарелые беззубые родственники макали в чай, а начинку ели ложками.
- Вкусно! - изрекла оголодавшая после похода на дойку тетя Катя.
- Недурно! - подтвердили интеллигентные тетя Маня и дядя Петя.
Мои молодые, без изъяна, зубы перемалывали пирог, как многорядные челюсти акулы. Было съедобно и духовито. Я ликовала…
Позднее я прочитала в каком-то научном журнале, что примерно таким же способом, на яйцах, замешивали цемент и глину в основание храма и в его кладку, чтобы стоял на века.
Дядя Доля - “Бармалей”
Он был очень забавным внешне глухонемой отец моей глухонемой подружки детства Фаины - дядя Доля. Я так и не знаю, как полностью звучало его имя. Давид? Не похоже…
Дядя Доля Штейнбух был нашим соседом по двору, а Фаинка моей самой первой в жизни подружкой. И если дядя Доля, по прозвищу Бармалей, был невозможно смешон внешне: обтекаемая, бесформенная фигура, походка - копия Чарли Чаплин, только кто кому подражал? Уж во всяком случае, не дядя Доля. Круглые глазки, стриженые усики и неухоженные кудри завершали портретное сходство с великим актёром.
Дядя Доля был зубным техником, причём очень квалифицированным. Из-за природной глухоты и немоты в армию не призывался и во время войны работал на дому: чинил зубы, делал протезы, а иногда выступал и в роли зубодёра. У него дома было специальное врачебное кресло на колёсиках, и мы с Фаинкой любили в нём сидеть и кататься, когда не было пациентов.
Когда же они приходили, кресло подкатывали к окну, чтобы видно было, что творится во рту страдальца.
Поскольку окно было на первом этаже, то нам, ребятам, было любопытно наблюдать за действиями дяди Доли. Он брал в руки какие-то иезуитские инструменты, решительно при помощи шпателя раскрывал рот бедолаги - и тут начиналось самое интересное, вроде фильма-ужастика, каковых в то далёкое время не было. Пациент, конвульсивно извиваясь, рычал, выл, визжал, ругался, молил, иногда пытался сцапать мучителя за палец - дяде Доле всё это было нипочём: он ведь ничегошеньки не слышал. Почему-то часто во время работы у техника чесалась спина, тогда он подходил к стояку двери или к углу голландки - и с наслаждением тёрся лопатками, так что штукатурка с печки со временем начисто стёрлась, а поношенный костюм дяди Доли приобрёл на спине белёсый оттенок. Эти почесывания давали пациентам короткую передышку, после чего новые вопли говорили о возобновлении экзекуции. Но делал свою работу дядя Доля на совесть: моя родная тётка Маня лет тридцать не снимая щёлкала вставными зубами, которыми наградил её наш сосед.
Когда после восьмилетнего отсутствия в Саратове я вернулась с Колымы и поступила в университет, дядя Доля совсем изменился: он располнел и облысел, лишь на висках кое-где курчавились кустики сбившихся волос.
По дурости, я как-то щедрой дланью веером сыпанула из окна своего второго этажа размоченный хлеб голубям - и попала прямо на лысину дяде Доле. Я не нарочно это сделала: над выходом из его квартиры был козырёк, не позволявший увидеть его выход.
Я жутко испугалась и пригнулась под подоконник, а когда разогнулась, он увидел меня и, показав на окна третьего этажа, где жили шебутные пацаны, мои приятели, покачал головой и погрозил пальцем. На меня, положительную студентку, он плохо не подумал, а зря, ведь внешность обманчива…
Чарльстон
Когда мы с подругой Анной осчастливили своим приездом Саратов, был июль: плавился асфальт, вода в Волге была теплая, как парное молоко, чахлые тополя, звеня листвой, изнывали от зноя. Нас, семнадцатилетних девчонок, соседи накормили, устроили на ночлег, помогли перекантоваться несколько дней, пока мы сумели, согласно закону, въехать в квартиру, принадлежавшую моим родителям, в самом центре Саратова, на проспекте Кирова, возле консерватории.
Соседей иззаботила наша, особенно моя, судьба, так как моих родителей все помнили с двадцатых годов, когда они поженились и получили квартиру в этом старинной доме, да и меня запомнили болезненной девчушкой, которую мои родители умудрялись родить на Колыме в жутком 1937 году, где работали по договору.
А тут прикатила из пугающего Гулага смазливая девица, самоуверенная до наглости, с несветскими манерами, и началось...
Все соседи считали своим долгом участвовать в моём воспитании, опекать, направлять, а я этого меньше всего желала, так как после смерти отца росла как трава в поле, никто не поучал, да и в тайге ориентировалась лучше, чем в огромном городе. Больше всех старалась обуздать меня Берта Исааковна Чёрная, бабушка друга моего старшего брата Юры - Давида, по прозвищу “дедушка Слон”. Берта Исааковна рано, в 42 года овдовела, отродясь не знала производства, сама признавалась, что никогда не подняла ведра воды. Но, как это часто бывает, люди, мало что знающие и умеющие, настойчиво стараются всех окружающих обратить в свою веру. Так было и в нашем случае. Берта Исааковна живо интересовалась моими успехами при поступлении в университет. Живя на третьем этаже, пристроенном к нашему дому во время войны для военных специалистов, она, вооружившись цейсовским биноклем, буквально выслеживала моё появление во дворе - и тут же следовало: “Ну как, сдала? Что поставили?” И не было случая, чтобы дотошная старушка пропустила свой допрос, ставший ритуалом. Ещё хуже стало, когда я поступила в университет: у меня появились поклонники, их было много, меня провожали домой будущие экономисты, филологи, физики, инженеры, юристы. Забот у Берты Исааковны прибавилось: она должна была знать всё обо всех. Как-то она ошарашила меня вопросом: “Ты выходишь замуж?”
- Я? - от удивления я остолбенела, - за кого?
- За Сережу Асланова.
- А кто это такой?
- Друг Доды, аспирант, он сам сказал.
Я истерично взвизгнула и стала хохотать до слёз, ведь я этого Серёжу раз случайно видела у Чёрных и фамилию его не знала. Ему было уже лет 25, и он мне казался почти стариком.
Дня через два Додя, как его звали в семье, со своим другом Серёжей зашли к нам с подругой Анной в гости, чтобы закрепить позиции. Глупее нашего поведения и придумать было нельзя: мы посадили гостей за стол, покрытый простыней за неимением скатерти, причем в центре этой импровизированной скатерти растеклось огромное чернильное пятно. Не зная, куда деть глаза и руки, наши потенциальные женихи с усердием изучали это пятно, а мы, две колымские куропатки, переглядывались и глупо хихикали. Никакого разговора не получилось - и аспиранты сгинули навсегда. Как передала Берта Исааковна, Серёжа сказал: “Больше я к этим девицам ни ногой”.
Бежали годы. Берта Исааковна перестала видеть даже в цейсовский бинокль. Понуро сидела она на дворовой скамье, слепо вглядываясь в проходящих мимо людей.
Однажды наша почтальонша вручила ей телеграмму: “Это вам!” Берта Исааковна близоруко всмотрелась в текст и отвечает: “Это не мне. Тут же написано Шварц”. Шибко грамотная почтальонша ей: “А «Шварц» в переводе с немецкого “чёрный”. Берта Исааковна взвилась: “А я не в переводе, а в натуре Чёрная!”
Внешне Берта Исааковна в старости очень изменилась: серые глазки слезились, крупный нос, в черных точках угрей, повис над усатой губой, она сломалась в пояснице, ноги скривились.
И надо же было случиться, что именно в это время появилась модная песенка: “Бабушка! Отложи своё вязанье, научи чарльстон танцевать!” И чарльстон стал очень модным. Додя, единственный внук, подшучивал над Бертой Исааковной, напевая эту песенку. Это был нонсенс: такая бабушка - и чарльстон. А ведь кто знает, наверное, она была хороша и стройна в юности и выделывала такие вензеля этого самого чарльстона, вновь ставшего модным в шестидесятые годы, что нам, тогда молодым, и не снилось. Вот теперь и мы состарились, а казалось, что всегда будем юными, влюбленными, гибкими и весёлыми и бойко танцевать чарльстон.
Другие произведения...