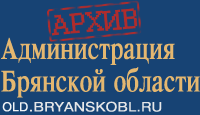Администрация Брянской области — высший исполнительный орган государственной власти Брянской области до 1 марта 2013 года.
Правительство Брянской области приступило к исполнению полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области 1 марта 2013 года в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013 года «О формировании Правительства Брянской области».
Cайт администрации Брянской области не обновляется с 1 мая 2013 года. Информация на этом сайте приведена в справочных целях в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558.
Для актуальной информации следует обращаться на официальный сайт Правительства Брянской области.
Д. ПЕТРОВСКИЙ.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА
("Повесть о полках Богунском и Таращанском")
В середине августа 1918 года,— еще когда закордонный повстанческий комитет большевиков Украины находился в бродах и был то «на колесах», то в Гомеле, то в Брянске,— человек геркулесовского сложения, в кожаной потертой куртке, громким голосом расспрашивал о нем в вагонах всех проезжающих по этим линиям поездов и на вокзалах.
Этот человек разыскал наконец комитет на станции Брянск, Риго-Орловской.
— Вы, товарищ, здесь организатор? — обратился он к сидевшему за отдельным столиком человеку в пенсне и в смушковой рыжей шапке набекрень.
— Я. А что?
— Моя фамилия Хомиченко,— заявил гигант,— я — старый артиллерист и большевик. Не могу ли я быть полезен? Я вас ищу уже целый месяц.
— Сейчас, как артиллерист,— ничем, а как большевик... У вас есть какой-нибудь документ, товарищ?
— Документ? — удивился Хомиченко.— Мой документ — я сам весь с ног до головы: мой кулак — для врагов, мое слово — для друзей.
— Так что же вы хотите предложить?
— Я имею на примете в одном месте немецкую пушку, товарищ. Если ее починить, она будет годиться. Только бы она стреляла, а насчет наводки — хоть воробья на колокольне сшибу, в Северную звезду и то попаду,— только бы туда долетело.
— Хорошо. Ну, так что же?
— Так вот я и думаю, что с этого нам надо начинать. Вокруг орудия я сколочу такой боевой кулак, которым мы здорово будем грозить с границы гетманчукам и оккупантам... Я полагаю, что вы намерены использовать нейтральную зону для военно-революционных целей. Там столько скопилось беглого с Украины боевого революционного народа, что из него можно набрать целые полки, и — бедовые полки. Ими никто не руководит, они слоняются—в лучшем случае грызут семечки и плюют в непроходимую пограничную Десну или «грызут» шпионов под видом спекулянтов пробирающихся через границу с сахаром и барахлишком. Я предлагаю...
_ Гм... Это дельно! — мигнул человек в пенсне своим двум товарищам, из которых один, с синими, как васильки глазами, был в фуражке военного образца.
Хомиченко в него долго вглядывался и вдруг воскликнул:
— Щорс! Что ж ты не признаешься? Старый товарищ- мортирец!
— Слежу, брат, за тобой с удовольствием. Оно очень интересно — со стороны наблюдать прежнего товарища. Ты все такой же мальчишка, каким был ив армии.
— Здорово, брат, здорово! — жал его руку Хомиченко.— Ну, как же ты думаешь? Ты что, в комитете?
— Нет. Я, как и ты, с предложением. Я мечтаю создать украинский полк на демаркационной линии. И твое предложение с моим совпадает. О какой пушке только ты говоришь? Где ты ее выкопал и — что с ней?
— Пустяки,— нет колеса и нет бойка в замке: плюнуть раз — и готово! Снаряды давай, брат, для трехдюймовки, Коля! — загудел он пушечным голосом.
— Я, видишь ли, намерен на этот раз опереться на штык,— сказал Щорс.— Да не гуди ты так: вон сколько народу собралось! Садись.
— Пусть собирается: нам народ нужен.
А народ слушал речи артиллериста и только стеснялся человека в очках. Когда же тот распростился и ушел, сказав: «Организуйтесь, я помогу всем, чем могу»,— Щорса и Хомиченко облепили люди в шинелях и кожанках и наперебой требовали тотчас же зачислить их в несуществующий еще Щорсовский полк и в несуществующую Хоми-ченкову батарею.
— Мы — украинские большевики,— заявляли эти люди,— и мы — ваши, то есть вы — наши. Мы в общем — свои. И — даешь полк и батарею!..
* * *
На рассвете по городу Почепу весенними лужами пробирались двое людей. Один из них нес в руках небольшую корзинку, которая сильно зыбилась — от груза.
Это были Щорс и Хомиченко.
На пороге кузницы, к которой они подходили, сидел сухощавый человек. Его русые кудри с сединой были так мягки, что ветерок шевелил их и свивал в кольца. Его наклоненная голова напоминала голову ребенка.
— Здравствуй, Сережа! — окликнул его Хомиченко. Сухощавый поднял голову.
— Здравствуй, Антоша. С чем пришел? Самовар, что ли, там у тебя?
Хомиченко, поставив корзиночку на землю, вытащил никелированный кочан.
— Комнатная наковальня, что ли?
— Какой тебе шут комнатная наковальня!..
— А-а, это другое дело! — протянул Сергей, беря в руки стальной кочан, оказавшийся артиллерийским замком.— Хорошо. Что же тебе тут — шпильку? Бойка нет, вижу...
— Сделаешь? — взволнованно спросил Хомиченко.
— Ильюшка! Илья...— закричал, оборотись, Сергей. На зов его из кузницы выбежал русокудрый мальчик.
— Займись паяльником! Да дай мне там коробку с гвоздями. Вот эта шпилька подойдет,— сказал он, разгребая ящик со ржавыми гвоздями и доставая толстую машинную шпильку.
Он примерил ее, и Щорс заметил, как ласково его тонкие, словно у музыканта, руки держали и поглаживали сталь замка.
Хомиченко, затаив дыхание в мощной, как мехи, груди, присел рядом и так нежно во все время операции дотрагивался до замка, как мать бы дотрагивалась до своего ребенка.
— Готово! — передал ему Сергей артиллерийский замок.— Клюй на здоровье! — прибавил он, глядя, как нянчил его в руках Хомиченко.— А сточится — принеси, новый вправлю. Только думаю, что долго клевать будет: я ему крепкий носик приправил.
Щорс со спутником зашагали обратно. Хомиченко шел танцующей походкой. Щорс, остановившись, дал ему уйти немного вперед, потом громко расхохотался.
— Какой же ты мальчишка! Тебя, Антон, за пьяного можно принять. Танцуешь! Признайся, ты сегодня не мокрый?
— Что ты, Коля, по такому делу шел! Да и где взять? Издеваешься. Я сух, как вобла. Зайдем, угостишь чаюхой. Эх, надо было Серегу прихватить, самовар поставить,— вспомнил он.— Погоди-ка, а я за ним слетаю.
И Хомиченко собрался было идти обратно.
- Успеешь! — удержал его Щорс.— Да ты прежде попробуй.
- Ну нет, брат, Серега не промахнет: у него и глаз и рука такие, что ему бы алмазы гранить! Ты видел, какая у него рука! Музыкант! Он тебе глаз вынет, вставит, и будешь видеть, как ни в чем не бывало.
И через час окрестность огласилась торжественным пушечным выстрелом.
У батареи, то есть у единственного орудия, стоял Хомиченко, румяный, пыхтящий, как самовар.
— Что, ребята, видели?
— Н-дда-а! — крякали ребята.— Это н-номер!
Кучка немцев и гайдамаков показалась над берегом. Они делали перебежку, видимо, всполошенные выстрелом.
Хомиченко выждал, пока все они сравнялись в одну линию против ствола орудия, и дернул курок.
Слепящей картечью срезало гетманчуков — их как и не было на лугу.
— Состриг! А теперь давай постромки, братва, и — ходу! Отъезжаем в прикрытие, а то еще откроют.
Артиллерийская прислуга принялась впрягать лошадей.
Эта пушка, ввиду недостатка снарядов, стреляла только в особых случаях.
На реке показались четыре плота и двенадцать шлюпок. То переходил на Зону партизанский полк из восставших недавно таращанцев. С той стороны враги садили по плоту артиллерией. Хомиченко ответил им с этого берега, по звуку выстрелов отыскивая и снимая огневые точки врага и прикрывая переправу таращанцев.
* * *
Таращанцы насчитывали двести сабель, при стольких же карабинах, кроме того — двести винтовок у пехоты, залегшей во рву с двумя пулеметами, и четыре орудия.
Патроны у них были считаны: едва приходилось по четыре обоймы на ствол; не лучше обстояло дело и с остальным снаряжением.
Таращанцы приняли бой с двумя гренадерскими оккупантскими полками, высланными из Киева, да с гайдамацкой кавалерией сабель в шестьсот.
Однако ж наступление было отбито, и дорога к Тараще была устлана трупами разгромленного неприятеля.
Вечером после боя Гребенко велел подсчитать снаряды и, увидев, что снарядов почти нет, решил пойти на дерзость: догнать уходившего неприятеля и, хотя бы ценою громадных потерь, добыть оружия и снарядов.
Помощи ниоткуда не приходило, и посланные для связи с Таращей, Нежином, Каневом и другими местами не возвращались. А неприятель завтра продолжит осаду.
И Гребенко пустил всю конницу вдогонку за неприятелем.
— Поскорее возвращайтесь! — кричали им вслед остающиеся.
И они вернулись. Вернулись к рассвету. Но Тараща не спала: она прислушивалась к тому, что делается кругом.
Ушло из Таращи двести всадников, вернулось сто пятьдесят, но зато вернувшиеся пригнали обоз — целое богатство. Тут были тачанки, нагруженные патронами, тачанки с пулеметами, тачанки со снарядами и две гарбы, нагруженные военной амуницией. Снаряды трехдюймовые, какие и требовались для захваченных ранее пушек. Да привезли с собой кавалеристы восемь замков от орудий: самих орудий не могли они захватить из-за быстроты маневра.
Таращанцы торжествовали. А назавтра стало известно, что восстал и Нежин, восстал и Канев. Вздыбилась восстаниями Украина. Задрожала гетманская власть.
Таращанцы передохнули.
Однако уже через неделю стало известно о разгроме нежинцев, а потом и каневцев гетманско-немецкими войсками. Оазисом свободы оставалась одна Тараща.
Ясное дело, что и ей тоже не миновать было той участи, которая постигла Нежин и Канев.
Гребенко собрал народ.
— Нас извещают нежинцы,— говорил он,— что они идут на нейтральную зону, за Десну. Идут туда каневцы. Ушли уже и новгородсеверцы. Остается и нам уходить туда -же. А уже оттуда, организовавшись в большие полки, мы придем вас выручать. Мы вернемся скоро. И если вас тут покарают, то мы не останемся в долгу. Мы за вас заплатим, а пока что — нет другого выхода. И, может, вас еще и пощадят. Скажите: «Кто воевал, те ушли». А если бы нашелся предатель среди вас, то все знают, что надо с ним делать! Так снарядите же нам хлеба в дорогу — мы ночью выходим.
И ночью выступило из Таращи партизанское войско и пошло
на северо-восток, к Десне.
«А что, братцы-товарищи, не долго ведь дозволим мы этой нашей земле, этим нашим полям, пашням и лесам стонать под пятою самозванцев-хозяев?
Мы — хозяева, истинные сыновья этой земли, и обороним ее для себя, для вольного труда на ней и для того, чтобы впредь уже из поколения в поколение — здесь свободно ходил плуг, и свободная шла коса,и свободные голоса пели бы свободные песни, прославляя труд и свободу!»
Так примерно сложилась бы та дума, которую думали таращанцы, что ехали и шли,— подобно запорожцам на Сечь,— на нейтральную зону.
Попробовали гайдамаки и немцы преградить им путь, да получили по скулам.
Но вот уже стали догонять их лазутчики с вестями из Таращи.
— Что же делается в Тараще?
— А вот что делается там... Карают гайдамаки безоружное население.
— Ну, постойте ж вы, гады, вот мы вернемся!..
Как только распространился слух, что восставшие таращанцы оставили город, в Таращу снова прибыл известный каратель - гайдамак Вишневский, ведя с собою и оккупантские полки — те самые, что пострадали от кавалерийской вылазки и кипели теперь местью.
Этим войскам, без боя занявшим Таращу, было предоставлено право бесчинствовать.
Насилиям, истязаниям, грабежу не было границ. Начались аресты и расстрелы мирных крестьян.
Застонал бедный город и опустил непокорную голову. Но ни единой слезы не захотел пролить. Все вытерпел, веря, что придет праведная месть, которою он утолится.
Никто не упрекнул ушедших, зная, что, лишь соединившись с другими, сообща могли бы они нанести сокрушительный удар и поставить на своем уже навсегда и повсюду,
Крепко болели сердца у ушедших. Не один отец и не одна мать были оскорблены, и не у одного малолетний брат взят как заложник и убит, и страдания эти окипали вокруг воинственных сердец день за днем и закаляли их в ненависти и гневе беспредельном.
Место чувств — чувств, смертельно оскорбленных,— заступило сознание, что этому насилию больше не бывать. Народу надо объединиться и создать свою армию.
И ушедшие, слыша день за днем приносимые вслед им страшные новости, двигались вперед на спасительную «нейтральную зону», веря, что там найдут таких же, как они сами, и, спаявшись с ними в одну закаленную бедствиями боевую семью, зажмут в стальное кольцо гадину мерзостно впившуюся в сердце страны, и задушат ее в боевом смертельном зажатье.
Так думали повстанцы, подвигаясь день и ночь к Десне.
Прежде, соблюдая осторожность, они шли лишь ночью и обходили людные места лесами, избегая лишних столкновений, которые могли бы их разорить и ослабить. Теперь же, позабыв об этой предосторожности, шли бесстрашно, и днем и ночью. Гребенко провел на своей карте красным карандашом прямую до точки «Почеп» и вел уже по прямой, обходя только болота и ни перед кем не сворачивая.
Так два раза пришлось таращанцам принять бой с оккупантами и гайдамаками.
В результате этих боев численность партизан возросла, умноженная присоединившимися к ним отдельными группами повстанцев, да прибавилось число отбитого оружия.
Героизм этого похода привлекал всюду, где проходили партизаны, сочувствие населения, уже пробудившегося к борьбе повсеместно.
Гребенко стал уже и побаиваться этой популярности, опасаясь, как бы не окружили их где-нибудь враги в кольцо. Не может быть, чтобы им дали возможность уйти из страны подобру-поздорову, после столь славного для них и позорного для врагов дела.
Тем более что было слышно, что каневцы, двигавшиеся таким же походом, были окружены и наголову разбиты в пути, так что на Зону прибыли только в половинном составе; остальные же либо были убиты в боях, либо разбрелись по лесам и оврагам и прибывали теперь на Зону поодиночке. Нежинцы шли уже не сообща, общим походом, а отдельными группами и разными путями...
Однако громоздкость снаряжения таращанских партизан, в особенности артиллерии, вынуждала идти всем табором, вместе. Орудия приходилось ценить, тем более что они
были вполне исправны.
Гребенко стал рассылать вперед и назад дозоры и разведки. Он все время знал, что делается на тридцать километров кругом.
Немало сел, через которые они двигались, встречали партизан хлебом-солью, хоть и знали, что за это потом их постигнет кара от временно прятавшихся по щелям полицейских и от предателей — куркулей, которые опекались гетманским правительством не хуже прежних дворян и носили значки «хлиборобов».
Поход таращанцев прогремел громкою славой по всей Украине. Партизаны прошли свой путь от Таращи до Почепа сокрушая все препятствия на пути. Но когда достигли они граничащей со свободным краем речки, враги окружили их и решили не выпустить — потопить, ударив артиллерией в спину.
* * *
Мирно спят казаки возле своих коней, спокойно жующих накошенный на вражьем берегу золотой овес. На горизонте показывается солнце. То там, то сям появляются женщины, чтобы задать корм домашним животным или выгнать со двора скот в стадо, идущее на пастбище.
Схватываются и казаки.
— Что ж ты, брат, всю кожанку на себя стащил? — упрекает соседа продрогший в утренней прохладе, спавший во дворе рядом с товарищем казак.
— Хорошо, что не коханку! — отвечает тот. Бегут казаки к колодцу, чтобы перекинуться с девушками задорным словом. А девушки спрашивают:
— Можно ли, не опасаясь, хоть сегодня выгонять скотину на пастбище, не вздумают ли опять казаки дразнить «тогобережных» ?
Сентябрьское солнце, ясное и чистое, светит, как в хрустале, в осеннем воздухе, и кажется, что каждая вещь способна разложить на спектр его лучи,— так все свежо, чисто и прозрачно.
Свежи и чисты человеческие голоса, свеж свист птиц, и даже шелест камыша можно отличить от шелеста стрекозьих крылышек, который тоже слышен в утреннем воздухе, не мешаясь с другими звуками, столь же чистыми и четкими.
Кто-то точит шашку о точильный камень, и слышен треск, сопровождающийся брызгами искр от прикосновения стали к камню.
Вдруг эту чуткую, упругую чистоту утра пронизывает грохот разрыва артиллерийского снаряда, отдающийся по реке.
— Ну, вот тебе и давай бог ноги! — говорят девчата, загоняя скотину обратно во дворы.
— Народ, народ! Мало вам войны было! Когда вы по домам разойдетесь? — укоризненно, но вместе с тем ласково говорят девушки казакам.— Вам все только бы казаковать.
— Ведем окончательную классовую борьбу, товарищи девчата,— отвечают казаки.
То подошли гребенковцы к Десне.
И враги ударили им в спину.
Но об этом еще не знают казаки и не понимают, что бы означал выстрел. Мигом седлают коней и, в ожидании приказа, продолжают утренний туалет.
Батько Боженко показался в дверях полуодетый и, потягиваясь, говорит вестовому:
— Катай к Щорсу,— узнай, в чем дело!
Казаки умываются прямо на улице, у крыльца, на котором стоит батько Боженко, ожидая своей очереди и растирая ладонями волосатую грудь под рубашкой.
Молодой казак сливает воду из ведра на лысую опущенную голову пожилого товарища и приговаривает:
— Рости, явир, на болоти, а волосся на голоти!
Боженко хохочет от всей души над этой шуткой, а облитый казак, раздразненный, гонится за убежавшим приятелем, который не подпускает его к себе, угрожая опять окатить водой из ведра.
Вскоре вестовой прискакал обратно и прокричал, что с того берега плывут на плотах таращанцы.
И враги громят их артиллерией.
Действительно, с коня было видно через огороды движение плотов по Десне. И дымки разрывов над ними. Большое войско конных и пеших грузилось на паромы, ожидая своей очереди под артиллерийским обстрелом.
— По коням! — мигом скомандовал батько и помчался выручать земляков.
Жаждущие свободы люди уходили с Украины на нейтральную зону.
Все сбегалось сюда. И целое лето это боевое партизанское племя скрипело, визжало и пело, жужжало, горланило и плясало, организуемое Щорсом, Боженко и другими вожаками-коммунистами, подчиненными общей задаче — создать Украинскую Красную армию из повстанцев.
Босое, неодетое, рваное, загорелое, голодное, злое, доброе и хорошее революционное племя росло в колыбели боев под собственные песни. Жило и умирало, обессмертив себя силою революционной воли и подвига.
Пламенные речи Щорса, военного фельдшера родом из местечка Сновска, ставшего сегодня грозным командиром, и революционный пыл батько Боженко, киевского арсенальского столяра и таращанского уроженца, пережигали и плавили, как сталь в горниле, буйных, непокойных повстанцев, организуя из них первые украинские революционные полки,— Великую большевистскую гвардию.
Боженко собрал всех, кто оказался на берегу, усадил на два длинных рыбацких челна, а сам захватил «люйс» под мышку и ударил на противоположный берег.
Бой завязался с пустяков, а разгорелся не на шутку.
Гайдамаки и оккупанты подоспели на выстрелы из ближайшей деревни к месту боя. Боженко высадил «десант» и вступил с ними в бой.
Дрались целую ночь. Не выдержал и Щорс и перекинулся тоже на запретный вражий берег в помощь Боженко. И в результате сотни полторы гайдамаков и оккупантов были перебиты в бою, а остальные бежали в панике. Щорс же и Боженко вернулись под покровом ночи назад.
Нейтральная зона напоминала муравейник, кишмя кишащий боевым народом.
Все это войско предпочитало жить бивуачной жизнью, привыкнув за время войны спать под открытой небесной кровлей. Особенно притягательным примером для остальных явились таращанцы.
Они привели с собой немалый обоз, запряженный волами. Кроме того, пригнали еще и целое стадо волов в качестве корма. Эти волы служили украшением их табора.
История волов, пригнанных таращанцами, отличалась живой поэзией. Волов этих партизанам дарило население тех мест, через которые они проходили. И вечерами, при прохождении через людные села, старик Гребенко приказывал погонщикам - партизанам прилеплять к рогам волов восковые свечи, купленные нарочно для этой цели у пасечника по пути, и зажигать их. Проходя через села походом партизаны зажигали свечи на рогах волов.
Население, пораженное зрелищем, высыпало из хат. Начинались расспросы.
А старый Гребенко отвечал, что в старые времена,— во время Сечи Запорожской и так называемой «Руины»,— запорожцы таким способом сигнализировали о народном восстании. Прогнанные со свечами на рогах по городовой Украине, волы являлись священным призывом к угнетенному панством населению: выступать на защиту своих попранных прав с оружием в руках.
Называется такой способ «гаслом».
Села, взволнованные торжественным зрелищем этого похода, присоединяли к стаду волов, а к войску — новых бойцов и коней.
А какие же кони были у таращанцев!
У Щорса, что называется, глаза чесались от зависти при взгляде на таращанскую кавалерию, приведенную Гребенко и бывшую теперь под командой Калинина и Кабулы.
На луг, что на том берегу, переплывали не только одни шальные Кабулины кони, но и калининские казаки: у коней же, как известно, неистребимая привычка к потравам — такие уж непоседливые они, тянутся к сену и к траве, и ничего не поделаешь...
Боевое самолюбие Щорса страдало, когда он видел, как целый стог сена (нагруженный не самими ли лошадьми?) переплывал реку на плоту, причем людей на плоту не было видно: видно, лошади сами и отстреливались от неприятеля! Это были не кони, а клад — вот какие были кони у Калинина и Кабулы.
Щорс и рад был бы связаться с ними для общих «операций», но ведь это было бы непослушанием правительству, повиновение которому Щорс признавал обязательным.
Кавалеристы, оправдываясь, говорили, что «кони, мол, сами, пасясь на лугу, переплывают на ту сторону; там трава не вытоптана, как здесь, ибо ее охраняют неприятельские дозоры. А уж вслед за конями плывут кавалеристы. Там-то и происходит у них, естественно, драка с оккупантами из-за сена. Кони же, как их ни путай путами, чуют сочную траву и других доводов не знают».
- Счастливцы эти Калинин да Кабула! А вот мы!.. Что Антоша, как ты думаешь? — говорил Щорс Хомиченко. -Не можем ли мы сослаться на твое орудие — ведь захвачено у немцев: «Захотела, мол, на побывку к своим, и пошла «Груша» вечером на тот берег за колбасами»? Или: «Как услышит, мол, родной запах колбас с того берега, так и чихает «Груша»: будьте, мол, здоровы — наш кашель вам в кашу!» А оттуда отвечают, и завязывается драка.
— А что ты думаешь, Коля? — говорил, сводя брови, Хомиченко.— Ты думаешь, что конский довод Калинина
лойяльнее?
— Я не думаю этого, Антоша.— улыбался Щорс.— Но как бы не «начихало» на нас правительство.
— Паршивое наше положение, Коля!
— Отвратительное, Антоша! — вздыхали, лежа под знаменитой «Грушей» в тени прикрытия, старые товарищи-артиллеристы.
И, наконец, надумали:
— Давай и мы заведем кавалерию! Пехотному ж полку полагается конная разведка.
— Правильно. Вот дело! Но где достать коней?
— Да у немцев же! — невозмутимо отвечал Хомиченко.— А то где же еще?
И назавтра два эскадрона богунцев в сто двадцать сабель проехались перед калининской квартирой.
Если верно, что мечта о солнце родится во тьме, как солнце родит себе черного двойника в колодце, то верно и то, что чем непогодливее и чернее становились дни на Зоне, падая к последним числам октября, тем ярче мерещилось продрогшему на нейтральном берегу войску солнце свободы.
И речи Щорса разгорались как костер. И он засверкал опять потемневшими было от сдерживаемого гнева глазами. Но всех неистовее становился батько Боженко, принявший теперь команду над всем таращанским полком по предложению самих таращанцев.
В Москве шел 2-й съезд украинцев большевиков, и делегаты нейтральцев уехали туда, пообещав остающимся добиться у съезда санкции на боевые действия.
Каждый день вокруг поезда с московскими газетами вскипали муравейником партизаны, и один голос перекрикивал другой:
— А что, что в Москве? Разрешили?..
Съезд раскололся на две половины: за и против наступления на Украину.
И нейтральцы, прослышав про то, не удержались. Древними богатырскими брянскими лесами повели Щорс, Боженко и Тимофей Черняк с Дедова и Мишкальцев на Картушин и Стародуб Красные войска. Проводником шел девяностолетний старик, которого, все время идя с ним рядом, Щорс угощал ландрином, приговаривая:
— Сахар полезен, старик, а зубов тебе не жалко — их нет. Ешь побольше да гляди в оба — смотри, не ошибись, отец!
Старик только хмурил седые брови, гордо косясь на Щорса: мол, не беспокойся, сынок, не подведу, знаю, куда веду. Он через непролазное картушинское болото вывел войска обходной тропой, и к рассвету полки обложили Картушин.
Щорс велел Хомиченко открыть артиллерийский огонь. Сначала «Груша» зажгла мельницу, а потом нащупала, путем сигнализации разведчиков, и самый гайдамацкий штаб.
Картушин откликнулся артиллерией.
Заработали пулеметы, и гайдамаки пошли в контратаку.
Этого только и надо было нейтральцам. Они давно мечтали встретиться грудь с грудью с врагом в открытом бою, и гайдамацкая контратака была отбита с огромными для них потерями.
Победителям достались трофеи: восемь орудий, две сотни коней и обоз со всевозможным довольствием.
Взятые орудия были немедленно пущены в ход Хомиченко.
Под невероятным огнем артиллерии Стародуб сдался без боя: гайдамаки подняли белый флаг.
А Щорс, приняв сдавшийся Стародуб, немедленно сообщил съезду телеграммой:
«Украинские партизаны дарят Второму украинскому большевистскому съезду к годовщине Октября первый город, взятый на Украине красными советскими войсками. Стародуб взят Богунским, Таращанским и Новгород-Северским полками без сопротивления сего числа, в 11 часов утра».
Резолюция съезда была в пользу наступления.
Риск нейтральцев был оправдан, и жизнь на Зоне приняла новый вид. Готовились в поход.
Однако ж этот блестящий прорыв только заставил громче забиться сердца. Находившееся на Зоне украинское правительство опять взнуздало расходившихся партизан и велело ждать взрыва внутри Украины и дальнейшего хода событий.
...Огонь пробегал по жилам. Мечта о свободе и о завоевании ее делала душу огромной,— дыхание не помещалось в груди!
Так прошел еще целый месяц, показавшийся партизанам вечностью. Щорс производил ежедневные занятия со своим полком, обучая бойцов строю и сдерживая этим способом их неудержимый порыв к наступлению на врага. Не терпелось людям. Но Щорс говорил бойцам:
— Пока вы не будете настоящими красными гвардейцами, я не поведу вас в бой.
И народ позволял ему себя обучать по всем правилам, считая, что он прав, этот отвага-командир!
— Терпи, казак,— атаманом будешь!
Наконец был дан приказ о наступлении, и могучею радостью наполнились сердца бойцов, идущих освобождать поруганную родину.
Это были львы!
Львы, взобравшиеся на конские хребты.
И кони, испуганные страшными седоками, становились страшными. Седок срастался с конем в одном порыве: рваться вперед — рубить врага, смести его с лица земли.
Рассвет, в который Зона перевалила через Десну, был красен от лент и бантов, вплетенных в конские гривы, в чубы и в шапки всадников, повязанных на сабельные эфесы, на стволы карабинов, на колеса тачанок.
В районе летней стоянки нейтральцев не оставалось ни одного красного лоскута, все они были взяты на банты, ленты и знамена.
Словно пламя степного пожара вспыхнуло на берегу Десны, отразилось в воде и покатилось по Украине.
Свистя, запевая и не кончая бесконечной песни, летела конная лава, оставляя пехоту на сотню верст за собой.
И не было у десятитысячной пограничной гетманской своры силы сопротивляться напору этих пятисот сабельных клинков.
Карта пространства менялась: древние леса Глуховщины и Новгород - Северщины сменились степями Конотопа - Батурина, и степная Черниговщина встретила разросшуюся конницу.
Батько Боженко пошел на Городню, услыхав про то как стойко дерутся безоружные городнянцы с гайдамаками и бьют немцев.
И вовремя пошел.
В начало раздела "УСКОРЕННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ"