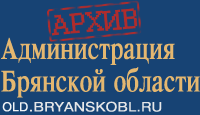Администрация Брянской области — высший исполнительный орган государственной власти Брянской области до 1 марта 2013 года.
Правительство Брянской области приступило к исполнению полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области 1 марта 2013 года в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013 года «О формировании Правительства Брянской области».
Cайт администрации Брянской области не обновляется с 1 мая 2013 года. Информация на этом сайте приведена в справочных целях в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558.
Для актуальной информации следует обращаться на официальный сайт Правительства Брянской области.
Индустриальная тема в литературных произведениях брянских писателей 30-х годов
Период ускоренной индустриализации породил в конце 20-х – начале 30-х годов своеобразный литературный жанр – индустриальный роман. Хотя издание произведений на производственную тему в те годы активно поощрялось государством, было бы ошибочно считать само появление данного жанра результатом какого – либо заказа. Период войн и разрухи привел к осознанию обществом прямой зависимости условий жизни горожан от "второй природы" – заводов, фабрик, железных дорог, шахт, электростанций; индустриальный роман тридцатых, таким образом, был одним из вариантов извечной темы – борьбы людей за выживание.
ВАСИЛИЙ ИЛЬЕНКОВ.
ХОЗЯИН
(Из романа "Ведущая ось", ГИХЛ, 1932)
Завод... Он раскинулся бесчисленными черными корпусами за окном. Он обступает Вартаньяна со всеми своими недугами и болячками. Он ждет. Вартаньян чувствует, что вся его жизнь, все его мысли и чувства неотделимы теперь от жизни этих продымленных зданий, – зычные крики крана пронизывают все его существо тревогой и беспокойством.
Завод, затерянный в бескрайних лесах и болотах западного края республики, был так же дряхл, как и эпоха, его породившая.
Он не раз переходил из рук в руки разных акционерных компаний, менял хозяев, и каждый хозяин по-своему комбинировал производство, возводил новые корпуса, планировал их так, как было выгодней: от прокатки рельсов, давшей несметные прибыли в восьмидесятых и девяностых годах, перешли на машиностроение; рост городов ознаменовался пристройкой механизированных кирпичных заводов, широким размахом проволочного производства, гвоздей; рост крупных машинизированных имений и крепких мужицких хозяйств потребовал постройки специальных цехов сельскохозяйственных орудий – жнеек, косилок, плугов. Империалистическая война сделала выгодным производство человеческих трупов, калек и больных. Тогда владельцы прекратили машиностроение и развернули в невиданных масштабах изготовление снарядов. Десятки поездов, нагруженных оборудованием войны, потянулись на запад – самым выгодным и надежным заказчиком оказалась смерть.
Годы величайших классовых схваток, дым и горечь гражданской войны легли на дряхлые стены, и завод постарел еще больше. Казалось, нет таких кудесников, которые могли бы вызвать к жизни машины, покрытые ржавчиной, разнесенные по частям для хозяйственных надобностей голодным людом. Казалось, машины отслужили свои век, остановившись у пределов своей работоспособности, записанных в их паспортах. Казалось, заводу, возникшему стихийно в лесах и болотах, суждено зарасти ельником, тиной и ржавчиной. Ржа надвигалась со всех сторон, готовилась пожрать человеческий труд, вложенный в машины, станки и металл. Завод, овеянный кладбищенской тишиной, немо созерцал трупы токарей и литейщиков, развешанные деникинцами на телеграфных столбах.
К заржавленным станкам пришли изможденные борьбой металлисты. Они начали счищать ржавчину с машин шестерен, суппортов, ставших своими. Первый директор начал свою работу по руководству так: он снял шинель надел фартук и принялся за разборку мрачного "армстронга"; нужно было строгать дышла для своих паровозов. Страна вступала в великую стройку. Сотни тысяч голодных человеко-дней возродили завод. Поэму об этих героических днях давно уже пишет один из бесчисленных поэтов страны – Григорий Андрюшечкин.
Грандиозный размах завода и сложность внутренней жизни его ошеломили Вартаньяна при первом же обходе цехов, – вечером он не мог никак вспомнить всех их названий и назначения, а на другой день утром он долго плутал по необъятной заводской территории, теряясь в металлическом грохоте.
Завод поразил Вартаньяна своей универсальностью: наряду с курьерскими паровозами и вагонами он производил плуги, гвозди, подъемные краны, косилки, тянул проволоку и трубы. На заводском дворе он наткнулся на ржавые части фордзонов – остатки неудавшегося тракторного производства.
Приезд Вартаньяна на завод совпал с рабочей конференцией, обсуждавшей производственную программу. Громкими аплодисментами рабочие встретили сообщение представителя треста об увеличении выпуска вагонов до двух тысяч; промолчали, когда докладчик заявил, что проволоку и гвозди придется передать на другой завод и заняться изготовлением оборудования для Днепростроя, но только услышали цифру паровозов, и мгновенно по залу будто промчался ураган – люди пришли в неописуемое волнение: кричали, стучали, ругались. С большим трудом удалось восстановить порядок. На трибуну вошел Титыч.
– Я бы спросил товарища докладчика: может ли человек жить без сердца? – учтиво спросил он, и при напряженном молчании конференции председатель треста с улыбкой авторитетно подтвердил, что "не может".
Тогда Титыч, демонстративно повернувшись к докладчику задом, крикнул:
– Товарищи! Значит, и нам нет жизни без паровозов! Мы родились и выросли около них. Я кончил!
И снова зал загудел, как растревоженный улей. Председателю треста не дали говорить, и он был вынужден по прямому проводу с Москвой изменить цифру паровозной программы. Вартаньян почувствовал у рабочих величайшую привязанность к паровозу – они готовы были защищать паровозы, как медведица своих медвежат, любовно, гневно, с готовностью самопожертвования.
В редкие часы недоступного отдыха любил Вартаньян взобраться на крутой, обрывистый берег реки и разглядывать с его высоты синие волны хвойных лесов, откатывающиеся к горизонту, хитрые петли речного русла, оседланного медлительными плотами, далекий беглый дымок паровоза, – и казалось ему, что раскинувшийся под ногами завод стучит, как железное сердце, лесами заросшего края. На сотни километров вокруг стелились леса, поля, расщепленные полосками тощих НИР, хуторами, отрубами, неуемной мужицкой жаждой обособления, обрываясь на западе узкой полоской границы, молчаливой и грозной. И Вартаньян знал: заводу, почерневшему от десятилетий, суждено поднять на старых плечах своих огромную тяжесть эпохи...
Вартаньян посмотрел на карту страны, и его охватило волнующее чувство, испытанное им впервые во время поездки в Сибирь, – чувство пространства.
Он помнит: мчался дальневосточный экспресс, в окне мелькали леса, поля, селения, города, горы, степи, и снова леса захлестывали поезд, смыкаясь дремучей тайгой; шли часы, умирал день, ночь надвигалась, снова вставала заря, купаясь в соленых барабинских озерах; тощий американец ежедневно переводил свои толстые, червонного золота, часы, потому что экспресс мчался вместе с неутомимой землей на восток, навстречу солнцу, пересекая границы поясов времени. И опять – степи, реки, леса. Так день, два, три... А поезд все ревет, грохочет и рвется вдаль, в бескрайние просторы равнин, и американец снова вынимает часы, измеряя протяженность этой удивительно длинной и страшной страны. Вартаньян, распялив циркулем дрожащие пальцы, отмерял на карте такое же расстояние от Москвы в обратном направлении – на запад.
Да, это было в Новосибирске... И такой же отрезок пересек Польшу, Германию, Францию, концом своим втыкаясь в Испанию, у берегов океана.
Он стоял пораженный и взволнованный у карты, в коридоре вагона, и пальцы его дрожали над красными точками четырех столиц.
– Ого!
Вартаньян обернулся и увидел американца. И не понять было: то ли он завидовал Вартаньяну, то ли опасливо созерцал движение его пальцев на запад, то ли выражал свое удивление?
И сейчас, при взгляде на карту страны, Вартаньян ощутил мелкую дрожь своих пальцев. Да, линия на запад, которую он тогда проводил в коридоре экспресса, проходит здесь, над заводом, над этими сосновыми лесами, над его головой, туда, к молчаливо-грозной границе. И Вартаньян понял: при первых выстрелах здесь будет фронт.
И то, что завод затерян в лесах, что линия проходит над трубами завода, что она пересекает поля, покрытые еще цепкими бородавками хуторов, снова вернуло его к думам о заводе, и он почувствовал на плечах тяжесть ответственности. И снова послышалась ему тревога в нервных выкриках крана, в звоне сорвавшейся железной балки, она сочилась из строчек маленькой газетной вырезки:
"На заводе "Красный пролетарий" по-прежнему неполадки срывают производство паровозов, необходимых до зарезу стране. По-прежнему продолжают поступать жалобы на плохое качество паровозов..."
Вырезка из "Правды" – обыкновенный шершавый клочок газетной бумаги, и клочок этот тревожно вздрагивает и шевелится от напряженного дыхания Вартаньяна. Глаза его подозрительно остановились на одном слове: оно жирное, черное и тревожное,– "по-прежнему". "Очевидно,– думает Вартаньян,– это не только обычный, излюбленный газетчиками прием выделения слов, а явный намек по моему адресу: сидит, мол, полгода Вартаньян на заводе, а все идет по-старому. Значит..."
Незаконченное письмо к .Лазо, мелькнув голубым крылом, полетело в черную пасть вздувшегося портфеля. В какой раз?
"Да, Лазо, моя маленькая обезьянка! Лови пока своих белых капустниц!"
– Директора...
В трубке что-то скрябалось и шуршало, мешая слушать
– Корченко?! Как дэло за последнюю декаду? А по бальшегрузному? – он схватил карандаш. – Семьдесят? Это с теми, что на козлах? Да ты нэ верти мне, пажалста, верти! Я требую точного атвета, Корченко. Бальшевик должен отвечать прямо! Что вертишь?! – черные блестящие глаза Вартаньяна раздраженно сверкнули, карандаш шлепулся в блюдце с недопитым чаем, распуская фиолетовые слезы.
В трубке царапание усилилось, скрадывая голос Корченко.
– Да ты гавари па-бальшевистски... Ну во-от... Это дэло другое... пятьдесят вагонов. Нет полускатов? Апять на козлы? А паровозы? Значит, заказ сдать нэ успеем. Сдадим? Ничего нэ понимаю, Корченко! Апять крутишь-вертишь! "Будь пакоен"! Какой тут пакой?! Па-чи-му нэ далажил на бюро?
Голос Вартаньяна взбирался все выше и выше, слова учащались и, промчавшись по проводам, врывались шквалом в уши Корченко.
– Приходи в райком, сейчас же! – Вартаньян бросил трубку и снова подошел к окну.
Захлебывались в звенящем грохоте пневматические молоты, глухо охал котельный, певуче гудел мостовой кран у мартена. По путям заводской дороги, спотыкаясь о шпалы, брел рабочий, хватаясь за сердце.
– Я пришел, Вартаньян.
Корченко прочно усаживался, медленно раскрывая портфель. Серые тусклые глаза его смотрели в упор на Вартаньяна и, как всегда, были холодны и спокойны.
– Гавари... – Вартаньян влип в кресло.
Корченко, не спуская глаз с черных, будто смоленых волос Вартаньяна, сохранял молчание.
– Гавари, пажалста! – нетерпеливо и властно повторил Вартаньян.
Корченко развернул сводку и ткнул пальцем в цифру, обведенную красным карандашом:
– Сделаем к сроку. Заказ сдадим сполна. Будь покоен...
– Апять ты свое – "будь пакоен"...
Вартаньян уткнулся в сводку, нашел графу "паровозы" и блеснул глазами:
– А откуда это – "сдадим"? Пасматри, Корченко!
Директор сидел с невозмутимым видом, как будто это его не касалось. Он спокойно вытащил папиросу из кармана и, чиркнув спичкой, ожидал, пока она разгорится.
– Ты праверяешь сводки?
– Это черновик... Здесь возможна неточность.
– Нэвозможно, ни к черту! Нэвозможно! Мне давай точность! Партию абманывать нэвозможно! Что ты вертишь Корченко? Смотри, какой высокий процент брака по паровозным деталям.
Вартаньян вскочил и забегал по комнате. Его каблуки четко отстукивали по паркету такт быстрых, мелких шагов – А это читал?
В наступившей тишине резче зазвучали звонкие выкрики металла, его стоны, ухание и визги под молотами, пилами и прессами.
Корченко скользнул глазами по строчкам и спокойно отодвинул от себя вырезку.
– Критиковать, Вартаньян, легко, конечно, а ты вот попробуй проверни этакую махину в тридцать цехов... А разве наш пролетариат, как один? Почему нет полускатов? Почему задерживается выпуск паровозов? Потому, что брак доходит до пятнадцати процентов. В литейном весь народ новый, "кошели" наперлись, а дела нет, деталей нет, браку до черта... Это не литейный, а какой-то крестьянский университет.
Вартаньян круто повернулся на каблуках.
– А ты что думал: завод нэ должен быть университетом для мужика? Должен быть! Через год-два мужик миллионами попрет на наши новые заводы, и те, кто сейчас стоят у станка, будут лишь тонкой прослойкой в новом рабочем классе. Эти мужики станут коренными рабочими. Должны стать. Только сумей научить быстрее и лучше. Корченко пыхнул папиросой:
– А это зависит от инженеров и мастеров. Их заинтересовать нужно... материально, конечно... В этом весь гвоздь вопроса... Остальное – само приложится... Был у меня интересный разговор с техническим директором с глазу на глаз, так он мне прямо сказал: "Заинтересуйте нас, и все будет сделано". Рубль, Вартаньян, – большая сила! – протянул Корченко, усиливая весомость слов.
– Смотри, тебе видней... Но имей в виду, что скоро наш доклад на пленуме акружкома... Надо подтянуться, Корченко! Самое больное место – мартэн. Сюда – агонь! Надо усилить мартэн специалистами. Сегодня утром у меня был Платов, присланный ЦК. Интереснейший человек... Молодость и гарячка так и прет из него. Назначим его помощником Крайского? Может быть, он выручит цэх?
Корченко улыбнулся.
– Молодой? Горячий? Смотри, здесь уж тебе, Вартаньян, видней. Не подкачаем... Не в первый раз... – и поплыл к двери.
Вартаньян раскрыл портфель, но в этот момент взревел гудок, и он, схватив кепку, ринулся из-за стола – в обеденный перерыв он должен был выступить в мартене...
Спотыкаясь о стальной хлам, загромоздивший проходы, лавируя между моделями и пирамидами опок фасонного литья, Вартаньян пробирался по цеху. Беспорядочной грудой высились колеса, только что освобожденные из опок, вросшие землей, неприглядные. В разноголосице криков Вартаньян уловил настороженным ухом:
– Чижало-о! В очередях народ томится... Красный уголок мартена был заполнен рабочими. Они оседали, запивая еду чаем из пузатых медных чайников. Над ними, под напором струи свежего воздуха от ревущего вентилятора, вздрагивали широкие лапчатые листья искусственных пальм. Из черной глотки репродуктора гремела героическая симфония Бетховена. Полуденное солнце, ворвавшись сквозь стеклянную крышу, шарило по взлохмаченным потным волосам формовщиков.
Титыч блаженствовал над объемистой кружкой чая. Ему хотелось сидеть так долго, не двигаясь, чувствовать, как тело наливается силой. И не верилось ему, что все это – и пальмы, и солнце, и звуки рояля – в двух шагах от пропыленной и дымной духоты мартена. Он дорожил этими минутами, ревниво оберегая праздничную торжественность уголка, ибо крепко помнил другое – сухой, скудный завтрак в тряпочке, разостланной на куче формовочной земли... Он только сейчас пристыдил Векшина за окурок, брошенный в банку с цветами, но не успел отвернуться, как на пальме повис грязный обрывок газеты.
Сурово сдвинув брови, Титыч подозрительно косился на лысого грузного рабочего, нарезавшего сало прямо на клеенке. "Порежет клеенку, кошель... Порежет..." – взволновался он и уже хотел было крикнуть, как вдруг из-за угла, где стоял фанерный раскрашенный мавзолей, раздался знакомый голос:
– Товарищи!
Вартаньян ждал, пока утихнет гул. Глаза его внимательно ощупывали лица рабочих, отмечая новые штрихи дня.
– Проходя сейчас по цэху, я слыхал нэдовольство хлебными очередями. Законное нэдовольство. Но в чем дэло?
Да в том, что мелкое крестьянское хозяйство нэ может угнаться за быстрой поступью промышленности, как черепаха нэ может догнать параход. А некоторые даже из вас, товарищи, – чего грех таить? – хатят, чтобы параход абаждал черепаху... Вчера на работу нэ вышло пятьсот человек! В чем дэло? Картошку садили – нэкогда было паровозы делать. Но ведь мы же сами добивались увеличения паровозной программы! Целую бучу подняли. Можно так? Нэвозможно, таварищи! Пазор! – Вартаньян обвел строгими глазами рабочих.
Сергей нетерпеливо слушал речь Вартаньяна, и ему казалось, что зоркие глаза этого человека преследуют его, – он отворачивался, но их взгляды снова встречались.
– У нас, на заводе, много новых рабочих. Они пришли из деревни, из мещанской среды... Они нэ пропитались заводским духом.
Вартаньяну бросилась в глаза бутылка с молоком.
– Карова, а нэ завод для них главное... Так разве на каровах привезешь хлеб из Сибири, с Украины? Так разве на карове подымешь завод?
– Известно, сдохнет... – съязвил лысый и заложил в рот пол-яйца.
– Га-га-га-га! Ловко подсадил! – восхищенно воскликнул Векшин.
– А почему не дают получки? Сегодня, чай, первое!
Все, ожидая ответа, притихли.
Вартаньян молчал. Рабочие напряженно смотрели на него. Минутная стрелка ползла к цифре 12, – скоро гудок.
– Патаму, что денег нет. Денег нет, патаму что заказ нэ сдали вовремя. Патаму и получки нет! Тогда над столами возник Сергей Векшин.
– Это, товарищи, не ответ! Раз мы работаем, должны платить! – закричал он, его лицо побледнело от волнения. – Вы-то сами небось давно получили? А мы, рабочие, так сиди?
– Какое нам дело?
– Получку!
– По-лу-у-учку!
И тут перед Сергеем выросла шарообразная головы Андрюшечкина.
– Это кто же... ты работаешь? Ттты?! Кому б говорить, да только не тебе. Прогульщик – раз! Пьяница – два! Лодырь – три! А еще образованный! Они стояли друг перед другом, возбужденные, готовые к схватке. Вартаньян видел вздрагив д недоброе мерцание глаз. А кругом нарастал крик.
– Почему на одного навалились?
– Зачем тыкать? Я, может быть, больше твоего за день работал, а молчу! – задыхался высокий, лысый, дожевывая яйцо.
– Браку ты больше сработал! – засмеялся Титыч. – Ты, Грязнов, больше всех сработал браку, твоя правда.
– А у тебя меньше браку? – взвизгнул лысый.
– Ты о себе скажи!
– И скажу.
– Хлеба давайте! Хле-е-еба!
– Полу-у-учку!
Из толпы выступил Борецкий. Он не спеша вышел на середину и поправил на шее красный платок, будто теснивший горло.
– Орать мы все мастера... – он обвел укоряющими глазами Вартаньяна, Андрюшечкина, Векшина – всех, и было непонятно, кого осуждает Борецкий. – Хлеб мы едим горький, это правильно сказано. Я сороковой год на заводе и все ем горький хлеб, а горек он оттого, что мы его потом своим поливаем. Такая уж рабочая доля... Чего ж орать-то?
Борецкий говорил обреченным, тягучим голосом, и его слова, как масло, расплывались над людьми, успокаивая гвалт. Вартаньян, довольный результатом его выступления, согласно кивал головой. Титыч хмуро топорщил брови, силясь распутать туманное сплетение мыслей Борецкого. Подавшись вперед, к мавзолею, он медленно, обдумывая слова, прохрипел:
– Не так говоришь! Жизня теперь другая. А тебе все хлеб горек? Кривая твоя линия, Антоныч! Не туда гнешь! И снова красный уголок наполнился гвалтом. Крики и грохот раздвигаемых скамеек слились в сплошной гам. Метались красные потные лица, вздымались руки, черные от формовочной земли. И только гудок, ворвавшись в открытые окна, смял и потушил крики, выталкивая рабочих в цех.
Вартаньян медленно пробирался по цеху, приглядываясь к людям.
– Позволь, товарищ! – Толкнув Вартаньяна, прошел широким, развалистым шагом рабочий, неся на плечах сизый формовочный стержень.
Вартаньян отступил! вбок, и вдруг над самым ухом раздался крик:
– Бере-гись!
Над головой Вартаньяна нависла груда колес, – от них исходил сухой зной. Качнувшись в воздухе, колеса мягко опустились на кучу земли рядом с Вартаньяном. Он поспешно шагнул влево и чуть не попал ногой в опоку На него глянули снизу, от опоки, строгие глаза Титыча:
– С непривычки тут и ноги поломаешь, товарищ Вартаньян, – усмехаясь, поиграл он ланцетиком и снова припас к опоке. – Неладно у нас в мартене что-то.
Титыч вскочил и, склоняясь к Вартаньяну, приглушен но заговорил:
– Чую – буза в цеху будет, беспременно. Вот она жизня какая! Не зря это Антоныч горьким хлебом тебя попрекнул – хитрый черт!
Титыч опустился на колени и начал помочком смазывать форму. Из светло-желтой она становилась смутно-голубой. как и выцветшие его глаза.
– Ты погляди-ка, Вартаньян, разве это работа? – Титыч показал рукой вбок.
Взгромоздясь на опоку, рабочий вяло тыкал набивкой в землю. Титыч махнул рукой.
– Жоров! – крикнул он.– Ты веселей долби, а те опять поведет колеса.
Жоров чаще затыкал, вызванивая набивкой по переплету опоки.
Его оглушал лязгающий грохот электрокранов. Кто-то кричал, срывая голос:
– Эй, эй! Право, верни-и!
Жорову вспомнились тихие сумерки над ржаными полями, сытый крик перепелов, свистящий полет стрижей похожих на черные стрелы. Он тоскливо вздохнул. От горячей формовочной земли шел тревожный удушливый запах. Он напомнил Жорову черный смрадный дым oi костра, в котором пылала его изба, предсмертное лошадиное ржание, собачий тоскующий вой – и все это непоправимое и жуткое снова с предельной остротой потрясло Жорова. Его руки бессильно разжались, и трамбовка упала к ногам.
Вартаньян стоял на мостике у печи N 2 и, оглушаемый гулом форсунок, смотрел вниз. Белели гончарные литники опок, приготовленных к плавке. Копошились в земле люди, придавая ей форму паровозных деталей. Над сталелитейной вздымался синий дым, сгущаясь под крышей.
Крючковатый палец электрокрана вцепился в паровозное колесо, приподнял и бережно понес его над головами людей в обрубную. Оттуда шел треск пневматических молотков, врываясь в цех пулеметной стрельбой.
Колесо, покачиваясь на цепях, плыло над людьми. Тревожно и неумолчно кричала сирена, предостерегая людей, возившихся над опоками. Неуклюжий Жоров, глохший от непривычного заводского шума, медленно переходил в цех с лопатой в руке. Обходя опоки, он влез на рассыпчатую кучу песка и увяз лаптями в тот миг, когда колесо, вздрогнув, коснулось его головы. Он испуганно дернулся в сторону, но колесо настигло его, и он полетел кувырком, ударяясь об острые углы опок.
"Крестьянский университет",– вспомнилось Вартаньяну выражение Корченко. "Рубль – большая сила",– и ему теперь эта фраза показалась детски-наивной, он усмехнулся и вслух сказал:
– Какая глупость!
– С глупостью легче жить. С умом – больше горя. Глупый доволен и маленьким, а умному дай больше. А больше достать – морду сперва разобьешь...
Кто-то сердито бормотал сзади. Вартаньян обернулся и увидел маленького, заскорузлого человечка с жесткой прозеленевшей бородкой.
– Ты кто?
– Я? Хозяин. А ты кто?
– Я... секретарь...– недоуменно разглядывал Вартаньян странного старика.
– По секретному делу? – старик натянул очки и приблизил горящие глаза к изумленному Вартаньяну.– У тебя глаза быстрые, умные. Ну-ка, глянь сюда, голубь! – он простер дрожащую от старости руку над цехом.– Под этой самой крышей я молодым еще работал, как ты, тому пятьдесят лет, отливал паровозные части. Наши паровозы были на всю Расею-матушку самые ходкие. А теперь тут гробы делают... – Голос старика дрогнул.
– Какие гробы? Что ты мелешь, старик? – подозрительно отодвинулся Вартаньян.
– Он вам намелет, товарищ Вартаньян, сорок коробов. Только слушайте,– вынырнул откуда-то Вениамин Павлович, ткнул сырую, мягкую ладошку и зашептал на ухо: – Он из ума выжил. Бредит. Из него, как говорят, песок уже сыпется. А ты, Кузьмич, лучше бы спать пошел. Я к вам, товарищ Вартаньян, по очень спешному делу... Можно оторвать на минутку?
Он уцепился за рукав Вартаньяна и потащил его к выходу. Старик повел затуманенными глазами им вслед и застыл на месте черной, горелой корягой.
Он смотрел на окутанных дымом и паром людей формующих паровозные части, и перед ним вставала его жизнь, прокопченная невзгодами, черная, как этот старый цех. Через его руки проходили тысячи паровозных колес и, постукивая на стыках рельсов, растекались по бесчисленным путям заросшей лесами страны. Он ненавидел эти колеса, созданные им, любовно отформованные и отлитые; они становились чужими, исчезали из глаз и порой возвращались, отстукивая угрозу. Так было не раз... Они привозили гикающих дико казаков, плети, свиставшие над головой, и увозили литейщиков, слесарей, токарей в ими же накрепко зарешеченных вагонах. Они перетаскивали на тысячи километров богатства, недоступные Кузьмичу, в мягких, обитых плюшем купе они катали хозяев жизни. И пришел день: они увезли последнее богатство старика – двух сыновей... Формуя в песке паровозное колесо, заботливо зализывая ланцетиком желтую песчаную форму, он проклинал творение своих жилистых рук, и ему хотелось скрыть в спицах или в ступице колеса зловещую раковину, чтобы грохотом крушения отомстить за проклятый труд. Но его руки ни разу не подчинились желанию мести, – что-то, горевшее под сердцем, властно противилось уничтожению создаваемых им вещей. Он тайно гордился собой, любуясь совершенством машины, собранной из отлитых им частей, и в этот миг забывал, что она может принести с собой завтра. Ненависть и любовь к машине, к сверкающему паровозу сливались в трепетное ожидание дней, обещавших радостный труд.
Эти дни наступили: они текут, как весенний поток, смывая с людей копоть столетий, наполняя, их радостью труда для себя. Но Кузьмич не мог уже больше копаться в земле, – руки скрючены ревматизмом, – и он продолжал трудиться, оберегая свои паровозы и труд людей. И сюда, к старым, гудящим печам, он пришел с зажженными тревогой глазами. То, что он увидел на восходе солнца под старой раскоряченной ивой, наполнило его смятением. Он искал человека, который мог бы понять его тревожное волнение. Увидел Вартаньяна и обрадовался, подметив на его лице такие же чувства.
Нет, он ошибся. И этот человек с быстрыми глазами счел его выжившим из ума стариком...
Опустив голову, стоял он, овеянный пахучим жаром мартеновской печи.
И вдруг старик, стремительно скатываясь по гулким чугунным ступенькам лестницы, с сердитым криком ринулся вниз:
– Егорка-а! Опоку обрушишь! Рази так зачаливать надо! Ах ты, кошель дырявый!
В начало раздела "УСКОРЕННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ"